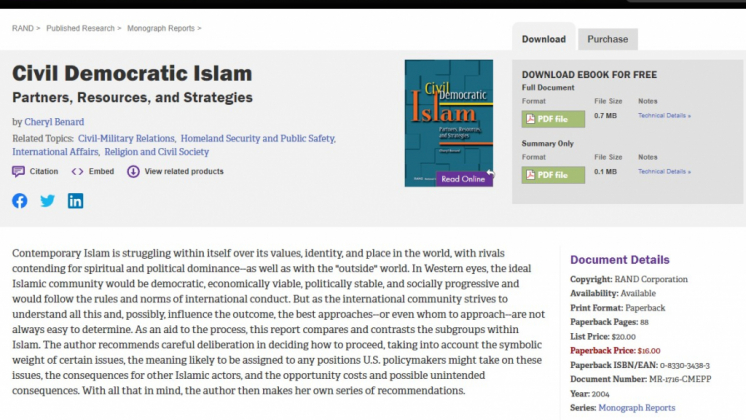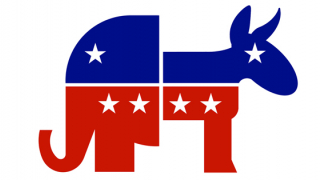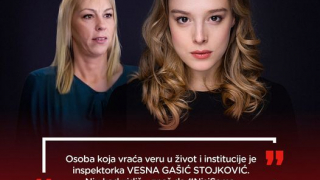Либерально-реформаторские попытки перестроить основы традиционного ислама
«Реформированный ислам – это уже совсем не ислам!»
Британский генерал Эвелин Бэринг (Лорд Кромер), фактический правитель Египта с 1877 по 1907 год.
Либерально-реформаторская инициатива по перестройки основ традиционного ислама содержит в различных сочетаниях элементы феномена «исламской реформации».
«Исламскую реформацию» обычно связывают с движением «исламского модернизма», возникшее в XIX веке, как «попытка осмысления места мусульманского мира в условиях западного империализма»(1). Основоположниками наследия исламского модернизма являются Джамаллудин аль-Афгани (1839-1897), Мухаммад Икбал (1877-1938), Мухаммад Абдо (1849-1905), Рашид Рида (1865 -1935).
Центральной идеей реформирования мусульманского общества исламские модернисты считали «открытие «врат иджтихада» (2), которое они рассматривали как противовес практики таклида (следования религиозным авторитетам без предварительного сомнения в истинности их суждений), как катализатор интеллектуального возрождения ислама и как средство рационального познания.
После событий 11 сентября 2001 года идея о реформации ислама возникает вновь, однако на этот раз «реформация» рассматривается сквозь призму западной модели развития, в которой фундаментальная идея «либерализм» экстраполируется на исламский мир, в результате чего «реформация ислама» подменяется «либерализацией ислама».
Вопросом реформирования традиционного ислама занимаются как аналитические центры США и Европы, так и обычные активисты. Среди наиболее цитируемых в западной прессе идеологов либерализации ислама можно выделить следующих: Чарльз Курсман (Charles Kursman), Мишель Брауэрс (Michaelle Browers), Дэйл Ф.Эйкэлман (Dale F. Eickelman), Сэмуюэль Цвемер (Samuel Zwemer), Тоби Э. Хафф (Toby E. Huff), Дэниэл Пайпс (Daniel Pipes), Андреас Якобс (Andeas Jacobs), Вилфрид Рейд Клемент (Clement, W.R), Шерил Бэнард (Cheryl Benard), Бэрнард Льюис (Bernard Lewis) и другие.
Наиболее цельная модель реформирования традиционного ислама изложена в докладах Rand Corporation, одного из центров информационно-психологических операций США. В частности, в докладе «Гражданский демократический ислам» (Civil Democratic Islam) эта стратегия реформирования представлена особенно подробно.
Согласно документу(3), для реализации стратегии реформирования традиционного ислама, мусульманская умма (община), в зависимости от соответствия их взглядов западной модели демократии и отношения к политике США на мусульманском Востоке, делится на четыре группы: фундаменталисты, традиционалисты, модернисты и секуляристы.
Фундаменталисты определяются как «последователи агрессивной, экспансионистской версии ислама, прибегающие к насилию и стремящиеся захватить власть на своей территории и установить жесткий контроль над массами, распространяя силой свою власть за пределами своей территории и по возможности во всем мире. Они объединяются не под лозунгами национальных государств или этнической идентичности, а под флагом единой мусульманской уммы (общины)».
Осознавая, что не всех фундаменталистов можно «предать анафеме», они подразделяют их еще на две подгруппы: фундаменталисты священного писания (scriptural fundamentalists) и радикальные фундаменталисты (radical fundamentalists). К первой категории они относят иранских революционеров, саудовский ваххабизм и движение Метин Каплана (The Kaplan congregation) – в Турции признана террористической. Ко второй подгруппе - всех негосударственных акторов террористической, экстремисткой и джихадисткой направленности (Аль-Каида, движение Талибан, Хизбут-Тахрир и др.) (4).
Одной из особенностей радикального фундаментализма они называют свободную интерпретацию исламских источников (Коран, Сунна), которая приводит к конструированию новых правил, отсутствующих в исламской правовой традиции.
Традиционалисты представляются «как сторонники строгого и литерального следования стандартам исламского права и традиции, которые рассматривают роль государства и политической власти как гаранта сохранения и поддержки исламской традиции». Им приписывают «исторически сформировавшуюся способность адаптироваться к меняющимся политическим условиям, позволившая сконцентрировать свои усилия на ежедневной практике в социальной среде, что и способствовало оказывать как можно большего влияния на массы и обеспечить контроль, даже если власть неисламская». Им вменяется «стремление сохранить ортодоксальные нормы и ценности и консервативное поведение насколько это возможно, рассматривая современные социальные «искушения» и современный темп жизнедеятельности как угроза традиции».
Однако и здесь в зависимости от отношения к переменам и реформам их подразделяют на две подгруппы: консервативные традиционалисты (Conservative traditionalists) и традиционалисты-реформисты (Reformist traditionalists). Первые соответственно категорически против любых перемен и реформ, а вторые допускают обсуждение реформ и иных интерпретаций, «придавая гибкость букве закона, сохраняя его дух».
Модернисты презентуются как приверженцы «проведения активных, далеко идущих преобразований современного ортодоксального понимания ислама и практики исламской традиции; считающие необходимость отказа от всех «вредных наслоений» местных и региональных традиций народов, переплетавшиеся с исламом на протяжении веков; убежденные в «историчности ислама», то есть в необходимости отказа от практики мусульман времен пророка, отражающие исторические обстоятельства того времени; рассматривающие необходимость конструирования «основного ядра» исламской веры, усилив его произошедшими изменениями в социальной сфере, исторических обстоятельствах и веяниях современности; почитающие такие ценности как «индивидуальная совесть» (individual conscience - что-то, о чем люди должны принимать решения в соответствии с тем, что они считают морально правильным) и общество, основанное на социальной ответственности, равенстве и свободе, которые легко совместимые с современными демократическими нормами».
Секуляристы обозначаются как «сторонники отделение религии от политики и государства; утверждающие, что государство не может вмешиваться в религиозную практику его адептов, и что религиозные традиции должны соответствовать законам страны и не нарушать права человека».
Деление на вышеуказанные группы не случайно, они являются неотъемлемыми элементами примерной модели реформирования традиционного ислама, каждая из которых наделена особыми функциями.
Центральными элементами выступают традиционалисты (то есть традиционный ислам) и секуляристы (либеральный ислам). Именно вокруг традиционалистов строиться весь механизм перестройки их в секуляристов.
«… будет заманчиво выбрать традиционалистов в качестве основных агентов в продвижении стратегии демократического (либерального) ислама, однако, Запад похоже выберет именно этот путь».
Два других – фундаменталисты и модернисты – вспомогательные элементы, задача которых: обеспечить необходимый информационный фон для благоприятного изменения ключевых для традиционного ислама принципов исламской традиции.
Реализация стратегии в первую очередь предполагает выделения в традиционалистах тех характерных черт, использование которых обоснует проведение либеральных реформ. К таким признакам они относят: «склонность к демократии, открытость в проведении дискуссий и эгалитарные ценности». Однако допуская наличия элементов демократии в исламской традиции, они все же признают несовместимость принципов традиционного ислама с западной моделью демократии по многим параметрам.
Так в докладе подчеркивается: «Основная проблема заключается в том, что философские основы этих двух концепций несовместимы. Современная демократия опирается на ценности эпохи Просвещения; традиционализм выступает против этих ценностей и видит в них источник коррупции и зла. Традиционализм противоречит основным требованиям современного демократического мышления: критическому мышлению, творческому решению проблем, индивидуальной свободе, светскости. Можно какое-то время замалчивать эти различия, но они никуда не денутся, и рано или поздно мы придем к конфликтным точкам». «Современное демократическое гражданское общество не будет поддерживать законы шариата; этого требует традиционализм. Современность не согласна со смертным приговором за супружескую измену или поркой и ампутацией конечностей в качестве приемлемых уголовных наказаний; она не согласится с принудительной гендерной сегрегацией или крайней и открытой дискриминацией в отношении женщин в семейном праве, уголовном правосудии, общественной и политической жизни. Не все традиционалисты стремятся реализовать все эти вещи, но все они защищают некоторые из них и в лучшем случае неоднозначно относятся к остальным».
Для решения этой коллизии вводится нарратив «модернисты» - промежуточный элемент, необходимый для нивелирования всех противоречащих западному либерализму принципов традиционного ислама.
Так в докладе указывается: «Модернистское видение ислама полностью совпадает с нашими принципами. Из всех указанных групп это единственное движение, воззрения которых соответствуют ценностям и духу современного демократического общества». «Именно модернизм, а не традиционализм приемлем для Запада. Именно он заявляет о необходимости отказа от следования первоначальной религиозной доктрине, возможности изменять ее и выборочно игнорировать ее принципы».
Осознавая непопулярность модернистских воззрений среди большинства традиционной части мусульманского общества, главным образом ввиду несостоятельности, выбранной модернистами методики интерпретации священных текстов, и высокого авторитета именно ученых традиционного ислама, вводится очень важный для модернистов нарратив – фундаменталисты.
Фундаменталисты, вернее поведение радикальных фундаменталистов являются удобным подспорьем для дискредитации основных положений и принципов традиционного ислама. Умалчивая об основательных различиях теоретико-методологической базы традиционного ислама и методов фундаменталистов, модернисты во всех работах приводят преступления джихадистских, террористических и экстремистских организаций как необходимый аргумент отказа от исламского наследия. Более того методика модернистов созвучна методики фундаменталистов, что демонстрирует чуждость обеих нарративов исламской традиции. Так, в докладе иронично подчеркивается: «… мы можем увидеть сходство в подходах модернистов и фундаменталистов. И те и другие, обращаясь к источникам мусульманского вероучения и права, руководствуются сугубо личным мнением, выбирая те интерпретации, которые им ближе. И те и другие имеют свой специфический взгляд на идеальное исламское общество, которое наделяет их особыми полномочиями по-своему вырабатывать те или иные нормы, как для индивида, так и для общества. Очевидно, что такой подход дает им большую свободу в маневрировании (читай «манипулировании»), чем у традиционалистов».
Понимая, что традиционалисты не прибегают к насилию и далеки от всех деструктивно ориентированных образов нетрадиционного ислама, делается попытка смешать все перечисленные группы между собой. Так в докладе говориться, что «…границы между перечисленными группами условны. Каждый традиционалист может быть фундаменталистом, самый современный из традиционалистов может быть модернистом, а самый радикальный из модернистов может быть секуляристом». «Трудно различить традиционалистов от фундаменталистов». … «Есть вопросы, по которым традиционалисты как никогда ближе к фундаменталистам (применение шариата, отношение к Западу и США в частности, гендерное равенство, статус женщины и др.)». «Даже традиционалисты–реформисты в вопросах международной политики ближе к фундаменталистам, чем к Западу».
Обозначив основные элементы стратегии реформирования и их функции, в докладе формулируются основные задачи, необходимые для достижения цели, ключевое положение которого считается «организация поддержки в первую очередь модернистов, а не традиционалистов, предоставив им широкую платформу для выражения и распространения своих взглядов; необходимость содействовать продвижению именно модернистов, а не традиционалистов, в качестве облика современного ислама».
Таким образом, модернисты (либерал-реформаторы) становятся главным инструментом продвижения либеральных идей в мусульманское общество для установления господства гегемонии Запада.
Сторонников продвижения идей либерализации ислама можно обнаружить практически в каждой мусульманской стране. Наиболее активные и известные из них являются выходцами из таких стран как Иран (Юсуфи Эшкевари (Yousefi Eshkevari), Абдулькарим Сорош (Abdolkarim Soroush), Ширин Эбади, Хашем Агаджари (Hashem Aghajari), Салман Рушди), Турция (Неджла Келек, Мехмет Пашаджи (Mehmet Pacaci), Умер Узсоу (Ömer Özsöy), Судан (Абдуллах Ахмад Ан-Наим), Египет (Наср Хамид Абу Зайд, Сирия (Мухаммад Шахрур (Muhammad Shahrur), Садик Аль-Азм (Sadiq Al-Azm), Индия (Ибн Варрак, Хумайюн Кабир (Humayun Kabir), Саид Вахидуддин (Syed Vahiduddin), Сомали Айнан Хирси Али (Ayaan Hirsi Ali ), Южная Африка (Ибрагим Муса, Фарид Эсак (Farid Esack), Алжир (Мухаммед Аркоун (Mohamed Arkoun), Марокко (Фатима Мернисси( Fatima Mernissi),Кувейт (Халед Абоу Эл Фадл (Khaled Abou El Fadl), Саудовская Аравия (Сухейб Беншейх (Soheib Bencheikh), Индонезия (Абдурахман Вахид (Abdurrahman Wahid), Малайзия (Амина Вадуд-Мухсин (Amina Wadud-Muhsin), Тунис (Абдельвахаб Меддеб (Abdelwahab Meddeb) и другие.
Будучи адептами непопулярных для основной массы мусульман идей, практически все из них были вынуждены покинуть свои родные края и обосноваться в странах Запада, продолжая свою «просветительскую» деятельность в стенах американских и европейских институтах (университетах), в то же время находясь в тесном контакте с различными фондами и некоммерческими организациями. Так, например: Юсуфи Эшкевари покинул Иран в 2005 году, после 5-летнего судебного процесса по обвинению в вероотступничестве. Отправился в Германию, где и продолжил поддерживать различные антииранские демократические движения (5); Абдулькарим Суруш покинул Иран в 1995 году, переезжает в США, где преподает в таких престижных вузах как Пристонский, Йельский и Гарвардсий университеты. Его работы все больше популяризуются на Западе разными изданиями, в частности, журнал «Foreign Policy» назвал его одним из мыслителей, которого должен слушать весь мир (6); Ширин Эбади – активный защитник прав человека в Иране, основала Центр защиты прав человека в Иране, в 2003 году получает Нобелевскую премию мира за значительный вклад развития демократии и прав человека. В 2009 году за поддержку сторонников антиправительственной критики, власти в Иране аннулируют ее награду и высылают в Великобританию (7); Абдуллах Ан-Наим покинул Судан в 1985 году и перебрался в США. В 1993 году его назначают исполнительным директором Африканского отделения по защите прав человека, расположенном в Вашингтоне. В 1995 году работает на факультете права в юридической школе Эмори, где в 1997 году становится преподавателем, а в 1999 году профессором права (8); Наср Хамид Абу Зайд покинул Египет в 1995 году, переехал в Нидерланды, где он стал приглашенным профессором в области исламских исследований Лейденского университета. В Нидерландах Абу Зайд в своей научной деятельности сосредоточился на двух темах, одна из которой — проблема защиты прав человека, в частности женщин(9); Фарид Эсак в 1994 году заканчивает центр по изучению ислама и мусульмано-христианских отношений (CSIC) при Бирмингемском университете, в Лондоне и получает звание доктора по герменевтике Корана (10); Мохамед Аркоун являлся профессором в Университете Люмьер Лион 2, Парижском университет 8, и Университете Париж 3 в Сорбоне, преподавал в Берлинском институте перспективных исследований и в институте перспективных исследований в Пристоне США. Он был пригалшенным профессором в Великобритании, США, Италии, Бельгии, Германии и других странах (11); Халед Абоу Эл Фадл является профессором в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, приглашенным профессором в Йельской юридической школе, назначен членом Комиссии США по международной религиозной свободе (12).
Являясь авторами различных книг и монографий, представители либерал-реформаторства охотно делятся своими взглядами и оценками с ведущими газетами и журналами США и Европы. В своих работах они пытаются изобразить современное состояние традиционного ислама как явление, катастрофически нуждающееся в кардинальной реформе. Осознавая несовместимость западной модели демократии с традиционным исламом, они ссылаются именно на универсальность западной модели научности, которая должна стать критерием всей реформаторской деятельности по перестройке исламской парадигмы. Признавая за источниками мусульманского права (Коран, Сунна, иджма и кыяс) главную основу выведения религиозно-правовых решений (фетв), либерал-реформаторы акцентировали свое внимание именно на теоретико-методологической основе традиционного ислама, пытаясь дезавуировать такие важные ее элементы, как наука о толковании Корана (‘ильм тафсӣр аль-Кур’ан), хадисоведение (ильм аль-хади́с) и методология исламского права (усул аль-фикх).
Главная идея, на которую опираются либерал-реформаторы является концепция «историчности ислама». Она подразумевает отказ от «сакральной» традиции следования мнению авторитета и утверждение принципа свободной интерпретации исламских источников (Корана и Сунны), позволяющие конструировать новые правила, отсутствующие в правовой практике традиционного ислама. В сущности говоря вся законотворческая деятельность всех последующих поколений мусульман после смерти Пророка (мир ему) объявляется «не божественной», и поэтому все субъективные мнения ученых (толкователей Корана (муфассиров), хадисоведов (мухандисов), правоведов (факихов)) будучи подвержены различным социальным, экономическим, политическим и историческим факторам, следует отбросить как «устаревшие наслоения», искажающие истинную суть «гуманистического откровения». Так Абдуллах Ахмад Ан-Наим утверждает, что «если революционный подход в «эволюции исламского законодательства», (то есть введение новых принципов толкования, позволяющие применять другие стихи Корана и сопутствующие Сунны вместо применявшихся ранее), будет принят и воплощен в жизнь современными мусульманами, то это сможет вывести нас из тупикового противоречия между объективными задачами реформы и теми ограничениями, которые налагает концепция и технология исторического шариата»(13). Наср Абу Зайд высказывает мысль, что «традиционный подход к толкованию Корана устарел и ограничивает как возможности для интерпретации текста, так и его смысл, поскольку сторонники данного подхода игнорируют историческое «измерение» текста, т. е. воздействие на него исторических и культурных факторов. …Игнорирование культурно-исторических условий, в которых имело место ниспослание и формирование религиозного текста, а также лингвистических аспектов самого арабского языка, на котором он написан, — ошибочно и нецелесообразно» (14).
По сути дела, это путь, которому следовали «вожди протестантизма, предложившие новую модель христианства, которая была основана не на сакральной традиции, не на христианском платонизме (как католичество), не на империи, а на новом принципе, во главе которого стоит индивидуум как христианин, который определяет свое отношение к Богу исходя из своего рассудка» (15).
Экстраполяция протестантской практики на мусульманство, позволило либерал-реформаторам выработать собственные теории и концепции, в содержании которых хоть и используется исламская терминология, но шариатское значение этих терминов подменяется новым смыслом, полностью соответствующие ценностям западной модели демократии (либерализма). Так в теории «консенсуса»(16) Абдуллах Ахмад Ан-Найим вводит собственное понимание терминов «ислам», «шариат», «ижтихад», «ижма», и другие, в целях адаптации предложенной модели светского исламского общества ценностям западной демократии; в «гуманистической» герменевтики Корана Наср Абу Зайд предлагает «пересмотреть методологию толкования Корана, используя средства современных наук, таких как методы лингвистики, литературоведения, литературной критики, дискурс-анализа, семиотики и др., допуская, что семантическая структура Корана строилась в зависимости от социальных реалий эпохи Пророка, и приходит к мысли, что познать Его руководство в его первоначальном виде и содержании не представляется возможным, а потому Коран в его известном нам виде не может быть идентичен слову Бога.…»(17).
Понимая необъективность выдвигаемой по отношению к традиционному исламу критики, либерал-реформаторы обосновывают необходимость принятия либеральной повестки разгулом преступной практики различных джихадистских, террористических и экстремистских организаций и движений, совершенно далекой от принципов и ценностей традиционного ислама. Именно деструктивно ориентированные образы ислама, появление которых многие эксперты связывают с преступной внешней политикой США и его союзников на Ближнем и Среднем Востоке, и являются основным доводом либерал-реформаторов в дискредитации практики традиционного ислама.
Тенденциозность предлагаемых модернистами методов замечают и сами покровители либеральной повестки. Так, директор департамента по социальным связям немецкого фонда имени Конрада Аденауэра (один из центров продвижения идей либерализации ислама) доктор Андреас Якобс сетует на то, что «будучи известными тем, что в своих исследованиях пользуются «западными методами», мусульманские модернисты значительно уязвимы в том, чтобы упрекнуть их в недостаточной компетентности в вопросах мусульманской религии. Типичный пример модернист из Саудовской Аравии Сухейб Бенчейкх. В то время как либералы-немусульмане восхваляют и поддерживают его, он едва ли вызвал пробуждение среди местного мусульманского населения, которые скорее склонны недолюбливать его. Среди европейских и американских реформистов дело обстоит не на столько лучше. По мере того, как им удается произвести впечатление на политические элиты, обычные избиратели не замечают их. Самой распространённой ошибкой политических элит в продвижении либерал-реформаторов является представление их «образцовыми мусульманами», что, несомненно, дискредитирует их в глазах простых верующих, ибо никто не может быть “западным” и “исламским” одновременно. Это на личном опыте прочувствовал сирийский модернист Садик Аль Азм. Фактически антизападный дискурс в исламских странах приобрел таких больших размахов, что даже либерал-реформаторам приходиться дистанцироваться от прозападной позиции» (18).
Несмотря на очевидную непопулярность либерал-реформаторов в среде мусульман, покровители модернистов все-таки настаивают на создании в стране прибывания «сетей (Networks) распространения идей либерального ислама, которые и должны привести к формированию полноценных движений, без которых либерал-реформаторы обречены на провал» (19).
В России знакомство с идеями либерализации ислама ограничивалось переводом на русский язык работ известных зарубежных реформаторов (н-р, книга Абдуллаха Ахмад Ан-Наима «На пути к исламской реформации. Гражданские свободы, права человека и международное право»), и анализом основных идей зарубежных реформаторов в различных научных изданиях. Единственная попытка продвинуть идеи либерал-реформаторства была предпринята в 2017 году модернистом профессором Тауфик Ибрагимом на очередной дискуссионной площадке «Mahalla 2.3. Школа мусульманского лидера» в Казани (проект ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования Казанского Федерального Университета) (20), но из за непопулярности идей либерал-реформаторов среди российских мусульман, она закончилась публичным обращением десятка известных исламских деятелей страны к председателю Совета муфтиев России шейху Равилю Гайнутдину с осуждением «сомнительных «теологических» споров»(21).
Основы традиционного ислама не требуют ревизии, все элементы теоретико-методологической базы тесно переплетены между собой. Отмененные стихи-аяты (насх) являются отмененными, потому что есть божественное указание на это, использование Сунны (преданий) Пророка (мир ему) предписано божественным указанием, единогласное мнение ученых (иджма) основано на неукоснительном требовании божественного указания, суждение по аналогии (кыяс) выноситься строго в пределах божественного указания. Текст божественного откровения и в форме Священного Писания (Корана) и в форме преданий Пророка (мир ему) является центральной категорией, вокруг которой строиться вся парадигма исламских знаний. Смысл жизни, природа человека, границы рациональности и другие аспекты жизнедеятельности человека настолько глубоко пронизаны духом божественного откровения, что попытка изменить хоть один аспект, болезненно отражается на всей системе знаний.
Авторитет титанов исламской мысли непоколебим. Труды таких учёных как Абу Ханифа (Аль-Фикх аль-Акбар), Имам Шафий (Ар-Рисаля), имам Газали (Кимийа-йи са'адат), Абу Мансур Матруди (Китаб аль-Таухид), Абу Юсуф (Китаб аль-Харадж), Мухаммад аш-Шайбани (Китаб аль Джами' ас-Сагыр), и многих других еще требуют глубокого изучения и осмысления. К примеру, для понимания фундаментального для традиционного ислама книги Абу Мансура аль-Матруди «Китаб аль-Таухид» (Доктрина единобожия), необходимо иметь познания как минимум в таких науках как Философия (фалсафа), Логика (Мантик), Теология (Калам), не говоря уже об стандартных исламских дисциплинах. Проблема мусульман не в архаичности исламского наследия, а в нехватке специалистов, способных передать смыслы текстов божественного откровения современному поколению. И эта работа ведется по всему исламскому миру, в том числе и в России. Учреждение Болгарской исламской академии, призванная сформировать ученных мирового уровня, использующие в своем арсенале не только фундаментальные знания традиционного ислама, но и достижения российской академической мысли, является ярким тому примером.
P.S. Либерал-реформаторская повестка коллективного Запада в отношении мусульманского Востока еще не закрыта, она временно отложена в связи с необходимостью устранить серьезного защитника традиционных ценностей – Россию. Политика многополярности в международных отношениях, отстаиваемая Россией, смертельно мешает Западу продвигать свои колониальные интересы по всему миру и «ставит крест» на гегемонии «универсальной» модели западного либерализма – идеологии, ставшей для «мусульманских» либерал-реформаторов «священным откровением».
Источники:
(1) Рогозина С.А. «Исламская реформация»: позитивный проект или искусственный концепт? [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/islamskaya-reformatsiya-pozitivnyy-proekt-ili-iskusstvennyy-kontsept (дата обращения: 05.11.21).
(2) Иджтихад (букв. – «усердствование, большое старание» представляет собой средство интерпретации и толкования исламских законов (шариата).Подробнее: https://islam-today.ru/blogi/rafik-muhametsin/cto-takoe-idztihad-i-kto-takie-mudztahidy/
- Civil democratic Islam, partners, resources, and strategies / Cheryl Benard. RAND Corporation, 2003.
- Организации запрещенные в РФ.
- “Apostasy in the Islamic Republic of Iran”- Iran Human Rights Documentation Center, New Haven, Connecticut,2014.
- A Proposal for an Islamic Reformation: The Radicalism and Restraint of Abdolkarim Soroush Jonathan W. Pidluzny, Morehead State University PREPARED FOR THE PACIFIC NORTHWEST POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION, ANNUAL MEETING; VANCOUVER, 2013.
- “Apostasy in the Islamic Republic of Iran”- Iran Human Rights Documentation Center, New Haven, Connecticut,2014.
- https://scholarblogs.emory.edu/aannaim/about/
- https://islamjournal.idmedina.ru/jour/article/view/714
(10) https://islamjournal.idmedina.ru/jour/article/view/890
(11) https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/582501
- https://law.ucla.edu/faculty/faculty-profiles/khaled-m-abou-el-fadl
- Абдуллахи Ахмед Ан-Наим. На пути к исламской реформации. Гражданские свободы, права человека и международное право. - М.: Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова, 1999, 288 с
(14) https://islamjournal.idmedina.ru/jour/article/view/714
- http://dugin.tv/content/filosofiya-politiki-lekciya-no-8-protestantizm-i-ego-sekulyarizaciya
- Islam and the secular state: negotiating the future of ShariÀa / Abdullahi Ahmed An-NaÀim. HARVARD UNIVERSITY PRESS. Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2008.